Николай
Добрый день, уважаемые читатели!
В последнее время меня в высшей степени интересует в вопрос структуры малой группы, который сложно назвать малоизученным, однако и методологически, и теоретически остаются области, заслуживающие внимание исследователей. Поэтому сегодня я хочу обратиться к двум классическим статьям, посвященным этой теме: «Трехфакторная модель значимого другого» А. В. Петровского и «Методический алгоритм определения интегрального внутригруппового статуса члена контактного сообщества» М. Ю. Кондратьева; с целью обозначить такие области и пригласить вас, дорогие читатели, к дискуссии.
Самым распространенным способом изучения групповой структуры является социометрия [4], предложенная Дж. Морено. Универсальный, гибкий и простой в применении метод позволяет оценить связи внутри группы по основанию симпатии-антипатии [1] через определение предпочтения членами сообщества друг друга. Например, можно спросить у каждого испытуемого, с кем бы он сел за одну парту, поехал бы на пикник, хотел бы оказаться в одном классе, перейдя в новую школу (для взрослых вопросы будут звучать несколько иначе) и т. п. Однако, как отмечает М. Ю. Кондратьев, оценка эмоционального отношения — самый поверхностный слой межличностных отношений, поэтому в соответствии с трехфакторной моделью значимого другого [2] её следует дополнить референтометрией и методическим приемом определения неформальной интрагрупповой структуры власти [1].
Референтометрия, как правило, проводится аналогичным социометрии образом [1; 4], хотя встречаются иные варианты [4], однако суть остается неизменной: исследуется значимость мнения другого. Так, можно спросить у испытуемого, чьи бы результаты предыдущей методики он хотел бы увидеть в первую очередь. Кроме вопроса в положительной форме в ходе обеих методик можно задавать его также в отрицательной, что позволяет оценить внутригрупповые связи более полно, но требует бо́льших усилий и подготовки со стороны экспериментатора.
Методический прием определения неформальной интрагрупповой структуры власти [1] по принципу проведения отличается от двух рассмотренных методик, но так же не представляет сложности в проведении: испытуемых просят проранжировать по степени властного влияния всех членов группы, после чего для каждого рассчитывается суммарный (или средний) ранг. Наличие разрывов в полученных результатах будут говорить о качественном различии властного статуса участника: низком, среднем или высоком.
На основе теории деятельностного опосредствования межличностных отношений в группах [3] и уже упомянутой трехфакторной модели рассчитывается интегральный статус, в котором наибольший вес будет у власти и далее референтности и аттракции соответственно [1]. Данный подход бесспроно можно назвать одним из самых разработанных и эффективных в социальной психологии. Поэтому, чтобы понять, какие аспекты могут требовать уточнения и доработки, следует обратиться к работе А. В. Петровского, в которой, на мой взгляд, наиболее емко раскрыты исходные положения рассматриваемой методологии.
Трехфакторная модель значимого другого [2] строится, как следует из названия, из трех факторов, расположенных ортогонально: аттракции, референтности и власти; каждый из которых состоить из дух дихотомических векторов. Таким образом, складывается трехмерное пространство значимости (рис. 1), где однозначной является лишь позиция абсолютной незначимости, соответствующая точке отсчета О — увеличение модуля по любой из осей даже в сторону отрицательных значений приводит к росту значимости, а знак и величина будут определять качественную характеристику позиции, что условно можно назвать статусом.
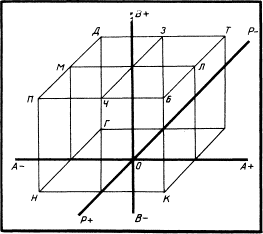
Рис. 1. Трехфакторная модель «значимого другого». В — власть, А — аттракция, Р — референтность [2, с. 8].
Максимальные положительные величины факторов: симпатия (А+), авторитетность (Р+) и властное влияние (В+); понятны, но что есть антиавторитетность (Р-) и отрицательная власть (В-) и как антипатия (А-) ассоциируется со значимостью? Петровский объясняет это следующим образом [2]: если референтного человека мы послушаем и поступим в соответствии с услышанным, то совету антиавторитета последуем с точностью до наоборот, властный человек способен побудить нас к действию — для отрицательно властного мы будем объектом дискриминации, как «раб для господина» [2, с. 9], а ненавистный враг, хотя и не как симпатичный друг, но будет по своему для нас значим (многие исследователи связывают эмоциональную реакцию с мотивами и потребностями, т. е. со значимостью: например, понятие личностного смысла А. Н. Леонтьева). Из сказанного можно сделать вывод, что иначе, как многомерным, феномен значимого другого назвать нельзя.
Таким образом, обнаруживается главное противоречие, а именно несоответствие трехмерной биполярной модели значимого другого одномерной униполярной шкале интегрального внутригруппового статуса. Нужно сразу оговориться, что подобное упрощения может быть оправдано не только в целях практического удобства, но и с точки зрения самой концепции для случаев множества, описываемого строго положительными значениями осей А, В и Р. Однако в иных ситуациях это может приводить к искажениями и неверному определению структуры малой группы: несложно представить вариант, в котором низкозначимый ученик и отрицательно высокозначимый оба будут определены как низкостатусные, но в одном случае речь может идти об изоляции, а в другом — о буллинге. Да, такие ситуации можно дифференцировать с помощью дополнительных методик или личного опыта, и тем не менее, на мой взгляд, теоретический и диагностический потенциалы методического подхода М. Ю. Кондратьева раскрыты не до конца.
Другое возражение вызвано отождествлением группы с коллективом, то есть с наивысшей степенью ее развития [3]. Однако контактное сообщество, образованное по принципу механической солидарности, например, школьный класс, склонно распадаться на подгруппы, объединенные собственно общей деятельностью, для которых данное соотнесение справедливо, но для всей группы в целом дело может обстоять иначе: так, особо разобщенные классы скорее будут относятся к диффузным группам. Как результа, в качестве высокостатусного может определяться наиболее компромиссный член всего сообщества, не являясь при этом высокозначимым, и, наоборот, высокозначимые в целом, но высокостатусные лишь на локальном уровне, будут сочтены среднестатусными в силу обобщения. Наиболее остро эта проблема проявляется при изучении подростков.
Также интерес вызывают более прикладные аспекты социо- и референтометрии, а также методов определения властного влияния, не связанные прямо с теоретическим обоснованием, но определяемые гибкостью и универсальностью методик, о которых говорилось в начале. Например, как лучше агрегировать положительные и отрицательные выборы, следует ли учитывать взаимные выборы не только в графическом анализе, но и в математической обработке, каким образом определить качественный скачок властного влияния с помощью математического аппарата и т. д.
Все высказанные мной предположения и вопросы я оставляю открытыми, так как не имею для них решения. Надеюсь, что мне удалось обозначить часть проблемного поле современных исследований малых групп и, возможно, заинтересовать вас. С удовольствием прочитаю ваше мнение на этот счет.
- Литература:
- Кондратьев М.Ю. Методический алгоритм определения интегрального внутригруппового статуса члена контактного сообщества / М.Ю. Кондратьев // Социальная психология и общество. — 2014. — Т. 5, № 3. — С. 125—141.
- Петровский А.В. Трехфакторная модель значимого другого / А.В. Петровский // Вопросы психологии. — 1991. — № 1. — С. 7—18.
- Психологическая теория коллектива : монография / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Педагогика, 1979. — 240 с.
- Реан А.А. Социальная педагогическая психология: Учебное пособие / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. — СПб.: Питер, 2000. — 416 с.







Несмотря на это, мы видим много исследований, где используется социометрия, благодаря которой добавляются слова "социальная психология", но это скорее соответствует 60-ым годам прошлого века.
Очень интересно Ваше мнение на этот счет.